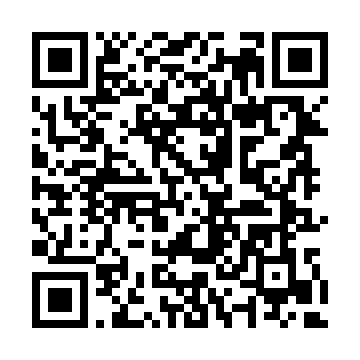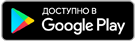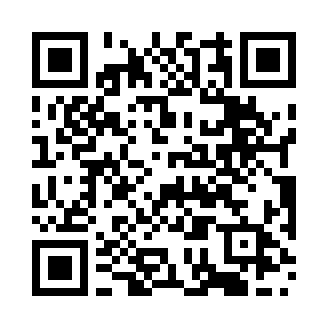Журнал Стандарт / №10(45) октябрь 2006
Бутик с широкополосным доступом
| Cтандарт |
|
Бутик с широкополосным доступом
Что представляет собой "широкополосность" для российского пользователя, какие возможности она несет клиенту, за "круглым столом" "Стандарта" обсуждали представители операторских компаний, вендоры и другие заинтересованные представители телекоммуникационной общественности.

Игорь Масленников, президент CTI: Мы живем в интересное время, когда происходят события, меняющие ландшафт бизнеса в области IT и телекоммуникаций. Речь идет об IP-перестройке. Телекоммуникации прошлого ассоциируются с миром каналов и TDM-сетей. В последние несколько лет стало очевидно, что на это место приходит нечто иное. С моей точки зрения, IP-перестройка в России началась год назад. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать, связана именно с этим событием.
Первый вопрос, который хочется задать, - это развитие широкополосного доступа (ШПД) в России - его состояние и перспективы.
Вторым вопросом предлагаю обсудить, как, собственно, эта перестройка идет с точки зрения миграции операторов из TDM в сети IP. Очевидно, что происходит это не только у операторов связи, но и в корпоративном секторе. И, наконец, хотелось бы рассмотреть, есть ли предпосылки к появлению новых услуг и новых бизнес-моделей развития на появляющемся рынке IP-коммуникаций.
Мы все работаем в разных сегментах рынка. Кто-то из нас представляет операторские компании, другие - вендоров, я - компанию-интегратора. Поэтому взгляд на тему будет разносторонний.
Говоря о широкополосном доступе в России, ситуация, с моей точки зрения, пока позорная. Об этом говорят и цифры. На фоне 140 млн населения страны общее количество широкополосных подключений в России исчисляется лишь сотнями тысяч, что значительно меньше, чем в тех странах, которые принято называть развитыми.
Правильно ли мое ощущение?
Александр Ивакин, заместитель главы представительства по работе с операторами связи Cisco Systems: Правильно. Потому что по данным на начало этого календарного года, только 1,5% населения подключено к Интернету по широкополосным линиям. Это не более 1,75 млн человек. В то время как общее количество тех, кто пользуется Интернетом приближается к 22 млн. Но и эта цифра сравнительно мала, поскольку это всего 15% от общего населения России.
В европейских странах процент подключений по широкополосным линиям - 30-35%. То есть мы отстаем практически в два раза. Это новость плохая. Но есть и хорошая тенденция. Число широкополосных подключений у нас удваивается каждый год.
Если мы будем развиваться такими темпами, то обгоним Европу и будем иметь шанс показать результаты правильного инвестирования в перспективные технологии.
Соответственно у России есть все основания выйти на уровень Америки, где широкополосные подключения давно являются нормой. Но у нас страна специфичная. В России много регионов с малым числом населения, большой площадью и недостаточной продвинутостью пользователей.
Владимир Шапоров, заместитель директора центра компетенции департамента "Телекоммуникации" Siemens: Хотелось бы уточнить. Мы говорим только о фиксированном широкополосном доступе в Интернет?
Игорь Масленников: Нет. Мы имеем в виду любой широкополосный IP-доступ.
Владимир Шапоров: Если бы сейчас в России предоставлялись услуги на базе сетей третьего поколения UMTS, в стране было бы значительно больше подключений.
Игорь Масленников: В Москве и ряде других крупных городов активно развивается компания "Скай Линк", предлагающая высокоскоростной мобильный доступ. Можно, конечно, поспорить, широкополосная это услуга или нет. Тем не менее я передачей данных от "Скай Линк" пользуюсь. Скорость, которую оператор предоставляет, меня вполне устраивает, и я готов считать эту услугу широкополосным доступом. Но... Количество абонентов у оператора не сильно велико. Есть ли основания полагать, что число пользователей в сетях UMTS будет намного больше?
Владимир Шапоров: Компания "Скай Линк" - это нишевый оператор. Те же, кто получит лицензии на работу в сети UMTS, смогут предоставлять услуги на массовом рынке. В стране одновременно появятся три широкополосных мобильных оператора. То есть при реальном внедрении сетей третьего поколения стоимость мобильного широкополосного доступа в Интернет резко упадет.
Анатолий Корсаков, коммерческий директор "Мера. Ру": Любопытно узнать: с запуском UMTS у всех ноутбуки появятся или коммуникаторы?
Даже если они и появятся, что абоненты будут делать? Рингтоны скачивать за секунду вместо трех?
Александр Ивакин: Есть статистика, выведенная аналитиками: когда скорость превышает 256 кбит/с, то дальнейшее ее увеличение уже не имеет решающего значения для абонента при выборе оператора связи. Дальше волнуют другие вопросы. Но если скорость ниже, я, к примеру, испытываю неудобства.
Говоря о "Скай Линк", я активно пользуюсь услугой доступа в Интернет этого оператора, могу качать почту, запускать VPN-клиент. Однако если мне сейчас предложат скорость в два раза больше и при этом в два раза повысят плату, я просто откажусь от этого предложения. То есть некая величина, которую можно условно называть массовым широкополосным доступом, на сегодняшнем этапе - это 256 кбит/с.
Анатолий Корсаков: Вы говорите, цены упадут, когда услуга UMTS станет массовой. Что же должно произойти, чтобы все стали пользоваться мобильным широкополосным доступом?
Игорь Масленников: Я предлагаю вернуться к основному вопросу относительно состояния и перспектив широкополосного доступа в России.
Ольга Макарова, руководитель департамента управления продуктами "Синтерра": На какой рынок вы рассчитываете, когда говорите, что услуга может стать массовой?
Если речь идет о корпоративном сегменте, то это не массовая услуга, даже при условии, что часть целевой аудитории пользователей - это представители бизнеса, которые используют мобильный широкополосный доступ, заключая договоры с операторами не от имени юридического лица, а как физические лица.
Если мы говорим о так называемом домовом сегменте рынка, то я не думаю, что потребности всех пользователей из этой целевой аудитории ограничиваются только почтовыми сервисами.
Владимир Шапоров: Не надо забывать о мобильных сетях, услуги которых сегодня активно развиваются. Кто пользовался GSM-связью и тем более SMS всего лишь десять лет назад? Сейчас число абонентов только GSM-сетей превысило 2 млрд.
Широкополосный мобильный доступ как естественное развитие привычной мобильной связи может стать серьезным конкурентом. Надо также учитывать, что человек, прывыкая к определенному набору услуг дома, со временем желает получать их везде. В этом контексте развитие широкополосных фиксированных услуг стимулирует, со сдвигом во времени, развитие широкополосных мобильных услуг.
Игорь Масленников: Насколько я понимаю, мы пришли к консенсусу. Никто не сказал, что с широкополосным доступом в России все хорошо.
Александр Голышко, главный эксперт "Комстар-ОТС": Когда говорят, что с широкополосным доступом у нас не все хорошо, это далеко не значит, что операторы и вендоры работают плохо. Есть объективный закон, который гласит, что информация, генерированная в обществе, пропорциональна объему валового внутреннего продукта (ВВП). Посмотрите, какой показатель ВВП в тех странах, о которых вы говорите. Потом поделите на наш и увидите, что число широкополосных линий в России будет в похожей пропорции.
В западных странах уже сегодня клиенту предлагают гигабит в секунду, и наша компания тоже может предоставить такую скорость - только абоненту, по большому счету, этого пока не нужно. Как верно замечено в одном рекламном слогане: "Зачем платить больше?" В среднем, как отмечают зарубежные специалисты, пользователь потребляет 512 кбит/с. А разговоры о том, сколько кбит/с нужно клиенту, сводятся к вопросу о типе информации, которую он хочет получить. Одним нужно ТВЧ, другим достаточно привычного аналогового ТВ. То есть кому-то достаточно платить один доллар и получать просто хорошую картинку, чем выкладывать большие деньги за "слишком хорошую" - это психологический фактор. Споры на тему получения высококачественного IP-TV, triple play - пока просто разговоры. Этот рынок только зарождается. А пока большинство пользователей занимается браузингом в Интернете, а для этого суперкачество не нужно. То есть прежде чем предлагать услугу, мы должны понимать - зачем она нашему клиенту. И пока потребность не созреет, бесполезно ее предлагать. Другой вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы услуга стала востребована - над этим сегодня ломают голову во всем мире.
Екатерина Мурга, руководитель бизнес-консультирования по России и СНГ, Alcatel: Дебаты о том, что продавать и как, наиболее заметны сегодня в сегменте фиксированной связи. По роду своей деятельности, я могу четко это идентифицировать.
В дискуссии витал некий тезис, который пока никто не озвучил - низкая платежеспособность населения. Если говорить о технологии DSL, которая является одной из основных технологий широкополосного доступа для массового рынка во всех развитых странах, то обычный DSL-модем стоит сейчас порядка $30. Для Москвы это не цифра, но если мы отъедем километров 500-700 от Москвы, даже меньше, эта сумма превращается в весьма значительную, поэтому смело может расцениваться как одно из сдерживающих рост рынка обстоятельств.
Второй момент: мы рассуждаем, нужна услуга или нет. А что за "услуга", кто и что о ней знает? У многих операторов, например, в региональных компаниях (МРК) холдинга "Связьинвест" до 2004 года не было даже как такового отдела маркетинга. Да и сейчас он зачастую представлен одним- двумя сотрудниками коммерческого департамента, которые пытаются развивать данное направление, продвигать "услугу", при этом, зачастую эти специалисты не имеют профильного образования, опыта работы именно в маркетинге, опыта построения маркетинговых кампаний и стратегий. Кроме того, стоит задаться вопросом, где, пройдя по даже Москве, можно увидеть рекламу широкополосного доступа? Кто из операторов его рекламирует, несет в массы, так сказать, кроме СТРИМа? А если мы поедем в регионы?.. Соответственно, говорить о том, что нет спроса - неправильно. Правильнее говорить о том, что практически нет информации о широкополосном доступе как таковом, равно как и об услугах на его базе. А ведь это массовый продукт и относиться к нему надо как к любому массовому продукту. Пока же пользователь (абонент) не понимает, что произойдет хорошего в его жизни, если он приобретет услугу широкополосного доступа, для чего она ему вообще нужна.
И последний момент. Мы все говорим про "трубу", широкую полосу, которую может предоставить оператор абоненту, но не говорим о главном: а зачем она? Что по ней передавать, какие услуги оказывать? То есть мы не говорим о самом главном - нужен контент, которого в нормальном виде пока нет, по крайней мере, в масштабах страны в целом. Работая над консалтинговыми проектами, общаясь с операторами, я, к своему сожалению, отмечаю, что к теме контента они обращаются чуть ли не в последнюю очередь. Тем временем, этот вопрос нужно выводить на первый план. Потому что, в конечном итоге, пользователь приобретает то, что будет в операторской "трубе", а не "трубу" как таковую. Пока в "трубе" ничего интересного нет, поэтому абоненты занимаются интернет-браузингом, а при таких обстоятельствах всем ли и действительно ли нужна эта широкая "труба"?
На мой взгляд, все-таки операторы должны сейчас объяснять и рассказывать. Как я всегда говорю своим клиентам, развивая услуги на базе широкополосного доступа, Вы должны понимать, что берете на себя образовательную функцию. Продукт новый, цифры по проникновению не впечатляющие, то есть "сарафанное радио" не работает, этот продукт сам себя не продает, поэтому при его продвижении надо использовать те моменты, которые применяются маркетологами при работе с массовым рынком, учитывать 4Р маркетинга. Необходимо полностью отвлечься от технологии, наши абоненты просто не понимают значения привычных нам терминов, которые зачастую, к сожалению, используются и в рекламе.
Алексей Собкевич, менеджер по развитию бизнеса Nortel: В мировой практике, да и в России мы натолкнулись на такой факт, что массовой на самом деле является не фиксированная, а мобильная услуга широкополосного доступа. Она может строиться по технологиям CDMA, Wi-Fi, в перспективе - WiMAX. Сравнивая две технологии третьего поколения - UMTS и CDMA, наша компания пришла к выводу, что гораздо более интересными являются возможности именно CDMA. Поскольку позволяют задействовать одновременно возможности и фиксированного и мобильного варианта, то есть когда абонент дома - он в фиксированной сети, в роуминге - в мобильной. Если сравнивать с UMTS, то это не всегда эффективный способ широкополосного доступа. UMTS движется (в сторону привлечения скоростей из CPP) по направлению интеграции с Wi-Fi и WiMAX. Наша компания приняла решение UMTS не развивать, а продвигать CDMA в сторону высокоскоростного доступа 3GPP.
Игорь Масленников: По Вашему мнению, массовым может быть только беспроводной широкополосный доступ?
Алексей Собкевич: Для абонентов важна стоимость. На базе бизнес-моделей, которые возможно задействовать для CDMA-доступа, можно создать пакеты, которые будут по деньгам значительно дешевле, чем широкополосный доступ по технологии ADSL.
Игорь Масленников: Терминалы CDMA будут стоить дешевле модема?
Анатолий Корсаков: Входной билет абонента на рынок широкополосного доступа - $25. Это средняя цифра.
Сергей Крестьянинов, председатель совета директоров "Светец": Предлагаю вернуться к общей теме: уровню развития широкополосного доступа, общества, потребностей и killer application, которые удовлетворят эти потребности. Пользователей услуг надо готовить. Главная движущая сила здесь вендоры - они работают на свои продажи. На начальном этапе развития естественно, что услугой будет интересоваться лишь малый процент пользователей. Поэтому констатировать позорность развития мы не можем, так как не видим на данный момент значительной потребности, хотя видим, примеры других стран - положительны. Соответственно, мы должны поддержать движение вендоров и всего сообщества для того, чтобы развивать потребности. Отсюда тема перетекает в область: что такое потребность, killer application и как технологии могут удовлетворять все это.
Александр Ивакин: Есть хорошая поговорка: "Человек не жалеет о том, что не ведает". Если мы выйдем на улицу и предложим потенциальному клиенту приобрести "нечто" за $5, он скажет, что ему этого не надо. Нормальная защитная реакция на неизвестное - отторжение. Если же мы объясним, что это и для чего, клиент, вероятно, будет готов заплатить и $10. Но если мы не разъясним ему его потребность - он никогда об этом даже не спросит. А мы будем говорить, что "нет спроса".
Александр Голышко: На самом деле абонентам все равно, какие технологии будут им предложены. Во всем мире они хотят получать качественную услугу и за приемлемые деньги. А каким именно способом она будет доставляться - не столь важно. Точно так же нас не волнует тип водопроводной трубы или электропроводки. Так будет и дальше. В частности, основой беспроводной сети будущего должна стать "бесшовная мобильность", подкрепленная универсальным и постоянным БШД, универсальным терминалом, который в инфокоммуникационном смысле "делает вас богаче" путем джентльменского набора услуг - информация + развлечения + связь + мониторинг + управление. Будет нужен и персональный контент, доступный всем и везде. Кто распорядится им лучше? Да какая нам, абонентам, разница? Нам будет важен контент и стоимость его доставки.
Игорь Масленников: Принципиальных возражений тому, что у нас плоховато развит широкополосный доступ, я не услышал. То есть в целом с этим тезисом все согласны. Однако этому есть объективные причины. И, следуя классической русской тенденции - кто виноват, - нашли сразу две. Первая - низкий покупательский спрос. Вторая - операторы плохо продвигают услуги, соответственно, и население не создает этого спроса. Нет ли третьего виновного?
Пока все, что я услышал на эту тему - широкополосный беспроводной UMTS-доступ, либо в стандарте CDMA, либо еще в каком-то варианте.
Владимир Шапоров: Мне кажется, что у CDMA 2000 нет перспектив. Я считаю, что UMTS (более точно W-CDMA/HSPA) и WiMAX обеспечат широкополосный доступ будущего.
Ольга Макарова: Вы хотите сказать, что беспроводные технологии в будущем вытеснят проводной доступ?
Владимир Шапоров: Нет. DSL-доступ (более широко - проводной) будет всегда.
Анатолий Корсаков: Если взять рынок в мировом масштабе - нет ни одной страны, где бы высокоскоростной мобильный доступ полностью вытеснил проводной. Даже на фоне таких высокоразвитых стран, как Япония, Корея, мобильный является дополнением.
Алексей Вомпе, заместитель генерального директора CompTek: Даже по техническим параметрам невозможно полное вытеснение кабельной структуры беспроводной. Физика такова. Действительно, появляется функция мобильности. Тем не менее все серьезные рабочие места объединены именно по кабелю. Поэтому беспроводность надо рассматривать, скорее, как некое удобное приложение, нежели конкурирующий транспорт.
Светлана Скворцова, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса Ericsson, Восточная Европа и Центральная Азия: Если посмотреть на динамику развития услуг Интернет и мобильной связи, которые начали развиваться приблизительно в одно и то же время, то понятно, что сотовая связь развивается быстрее - проникновение здесь 78%. Оценить проникновение Интернета достаточно сложно, сейчас говорят где-то о 30%. Но развиваться будет и одно и другое. Ведь у каждого способа получения информации свой сектор и своя специфическая задача. Можно говорить и о том, что UMTS - тоже беспроводной широкополосный доступ, но он никогда не займет место проводного. То есть широкополосная проводная сеть будет развиваться всегда. Причем это стимулируется государством, поскольку надо развивать социально значимые программы, такие как телемедицина, дистанционное образование и другие. В то же время UMTS будет развиваться с точки зрения массовых коммуникаций, для того чтобы сделать доступными приложения и контент в Интернете.
Екатерина Мурга: Пришло время, когда оператору важно отвлечься от технологической конкуренции и понять, что теперь она лежит в плоскости услуг. Не нужно забывать о тенденции, уже ярко проявившейся на Западе и зарождающейся в России, причем пионеры уже копают в этом направлении - это конвергенция сетей.
Есть операторы, которые уже готовят базу для того, чтобы добиться такого уровня технологического развития, когда абоненту будет неважно, куда подключиться - к фиксированной или мобильной сети. Он просто будет выбирать нужные ему услуги. Пока об этом задумываются в основном те, кто одновременно владеет фиксированным и мобильным активом, но тема актуальна для всех без исключения. Об этом не нужно забывать.
Некорректно ставить вопрос о замещении одной возможности другой. Правильнее говорить о сосуществовании и взаимном дополнении. Раньше для продажи технологии нужно было убедить технический департамент в ее полезности. Сегодня все иначе, есть коммерческие блоки, которым нужно объяснить, что оператор заработает, внедрив ту или иную технологию. Технология как таковая уже не вызывает интереса.
Об этом не стоит забывать, ведь клиенту, действительно, все равно, как это будет работать, куда важнее, чтобы он получал те услуги, которые хочет, как он хочет, которые ему нужны и интересны.
Ольга Макарова: Мне кажется, не совсем корректно сравнивать процент проникновения Интернета и мобильной связи. Телефонная связь - услуга, понятная потребителю и востребованная им. Мобильность - это ценное свойство известной потребителю услуги телефонной связи. Выгода, которую приобретает потребитель услуг мобильной связи, очевидна для всех, а выгода пользования Интернетом понятна далеко не каждому.
К вопросу о мобильном и проводном доступе можно сказать следующее. Быстрее всех выгоду от пользования новой услугой понимают подростки. Но ограниченные скорости мобильного доступа и достаточно высокие цены не могут удовлетворить все потребности этой целевой аудитории. В этом смысле доступ через сети операторов мобильной связи никогда не станет полноценной заменой проводному. Если посмотреть шире, не все так однозначно. В последнее время активно развиваются сети Pre-WiMax.
Сегодня нужно продавать сервисы, а не возможности инфраструктуры. Современный пользователь имеет широкие возможности выбора поставщика услуг, но ценит качество плюс удобство обслуживания и зачастую хочет получать весь набор услуг (как фиксированной, так и мобильной связи) в рамках одного контракта. В этой связи перед операторами ставится достаточно сложная задача по построению легитимной схемы межоператорского взаимодействия в процессе предоставления услуг FMC (Fixed-Mobile Convergence) . Но при разработке легитимной схемы предоставления даже минимального набора услуг FMC требуется решить достаточно большой круг вопросов. Ведь потребитель услуг является одновременно абонентом сети фиксированной связи и абонентом сети мобильной связи. Сети, как правило, принадлежат разным операторам, а условия предоставления услуг мобильной и фиксированной телефонной связи регулируются разными нормативными актами.
Включение в сервис услуг неголосовой связи, возможность использования IP-технологий в составе сервиса ставит еще большее число вопросов перед разработчиками услуги (я имею в виду представителей продуктовых направлений компаний - операторов связи).
Игорь Масленников: Что вы думаете относительно перспектив развития широкополосного IP-доступа в России?
Денис Кочергин, руководитель группы сетевых решений дирекции развития продуктов и услуг Orange Business Services: Хочу высказаться относительно развития широкополосного доступа в России и вложить еще один кирпичик в зарождающийся беспроводной сегмент. В стране нас ожидает, я бы назвал, разумное продвижение. Технологии ADSL, ADSL2, высокие скорости появятся не только в крупных городах, но и районных центрах. Кроме того, все активнее начнет проявлять себя доступ беспроводной, прежде всего в виде WiMAX, CDMA и других технологий.
Алексей Торопыни, технический директор представительства RAD Data Communications в России: Технологически все готово, я был в командировке в Саяногорске (Хакасия), не самом крупном российском городе, и при покупке интернет-карты мне предложили подключиться по выделенке - "это удобнее и быстрее", так что все дело в тарифах, рекламной кампании, а не в технике.
Анатолий Корсаков: Мы не можем говорить, что в России широкополосный доступ будет развиваться так же, как во всем мире. В каждой стране свои особенности, возможности и технологии.
Ольга Макарова: Кстати, в Англии, например, превалирует ISDN-доступ, в Америке другие технологии.
Игорь Масленников: Почему все попытки говорить о состоянии широкополосного доступа завершаются темой мобильности, или мы уходим в сторону услуг?
Ольга Макарова: Потому что сам по себе широкополосный доступ - это провода с оборорудованием, а потребителю нужен сервис.
Александр Ивакин: Мы живем и работаем в России - в стране, где долго запрягают, но быстро едут.
Если мы вспомним о первой в России MPLS-сети, то построена она была одновременно с принятием мирового стандарта MPLS, это Кубаньэлектросвязь. Кроме того, как только в Италии и Швеции в 1999 году появились пионеры широкополосного доступа, в Петербурге была создана компания, построившая свою сеть по той же сетевой архитектуре. Но дальше дело не пошло - взыграла российская ментальность, и мы опять стали долго запрягать. Но год-два назад начался бум NGN и start-up операторов широкополосного доступа. Только в этом году порядка 10 компаний заявили о строительстве широкополосных сетей в различных регионах страны. И я уверен, что всех их ждет успех! Ведь, к примеру, только в одном городе Нью-Йорке около 800 сетей широкополосного доступа. И всем хватает места на рынке.
С этой темой есть еще одна ассоциация. Эфир ограничен, нельзя проложить много радиоканалов, в то время как волокном можно всю дорогу устелить - была бы потребность. Поэтому спорить о замещении технологий - бесперспективно. Возможности беспроводной связи, скорее, надо рассматривать в контексте мобильности как сервиса или одной из функций широкополосного доступа.
Сейчас много говорят о triple play, но уже появился и quadra play - triple play плюс мобильность, которая дает универсальность всем первым трем сервисам. Поэтому нет смысла противопоставлять одно другому.
Георгий Санадзе, менеджер по проектам и предложениям Avaya: Развитие услуг широкополосного доступа напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Если в России будет нормальная экономика, новые рабочие места, конкуренция между корпорациями, то через пару лет проникновение ШПД может быть больше, чем в Европе. Если же в экономике начнется стагнация, то развитие снова затормозится. Прогнозировать развитие ситуации мы можем только с точки зрения технологий.
Наталья Лыкова, директор департамента маркетинга и PR "Светец": Технологически, допустим, рынок готов. Однако стоит вернуться к вопросу о том, что операторы не рекламируют свои услуги. Когда "труба" почти пуста, может быть, нужно рекламировать ее возможности, чтобы привлечь тех, кто поможет ее наполнить?
Игорь Масленников: Почему вы считаете, что вопрос широкополосного доступа - это вопрос технологический. Что движет развитие ШПД в Америке, Западной Европе, Корее, Бразилии, Индии и других странах?
Анатолий Корсаков: Операторы связи и не должны продвигать дополнительные услуги. Ведь контент предоставляется контент-провайдерами. Другое дело - говорить об услуге доступа.
Сергей Крестьянинов: Сейчас нужны сервисы, а технологическая готовность инфраструктуры должна это разнообразие обеспечивать. Ведь "труба" - транспорт, а ширина трубы определяется сервисами и потребностями.
Алексей Торопыни: Это совсем не вопрос технологии. Пользователь предпочтет того оператора, который предоставит ему услугу доступа хорошего качества за наименьшие деньги. И чем более массовой будет услуга, тем меньше пользователей захотят разбираться, по какой технологии она предоставлена.
Игорь Масленников: Всеобщая доступность широкополосного доступа - это не причина, а следствие. Кто согласен с тем, что не широкополосный доступ тянет за собой сервисы, услуги и коммерцию, а наоборот услуги тянут развитие ШПД?
Георгий Санадзе: Есть абоненты, которые готовы уже сейчас потреблять услугу. Это молодежь, корпоративный сектор - именно они порождают спрос, соответственно, и операторы будут развиваться.
Ольга Макарова: Сейчас появилась тенденция, когда сервисы живут вне инфраструктуры, то есть пользователь платит напрямую владельцу сервиса за сервис. При этом оператору связи отводится всего лишь скромная роль перевозчика чужих ценностей за весьма небольшую плату. И спровоцировало появление таких технологий именно развитие широкополосного доступа. Увеличение скоростей доступа приводит к постоянному снижению стоимости ресурсов телекоммуникационных сетей, в развитие которых оператор вложил значительные средства, рассчитывая при этом на получение доходов не только за предоставление возможностей инфраструктуры, но и предоставление сервисов конечным потребителям. Яркий пример - Skype. Такая ситуация может привести к тому, что операторы перестанут вкладывать деньги в развитие инфраструктуры своих сетей, а сервисы, которые сейчас живут на сетях операторов помимо воли этих операторов, убьют сами себя.
Алексей Рокотян, первый заместитель генерального директора "Норильск Телеком": Кто-то заметил, что операторы "сидят на трубе" и ничего не делают, но, по-моему, это совершенно нормально - это их место. При этом совершенно неважно, на какой "трубе они сидят" - проводной или беспроводной. Другое дело, что над ней существует сервис, и разговоры о том, кто кого тянет - никому не нужны. Эти сегменты существуют параллельно, развивая друг друга. То есть новые услуги вызывают потребность в большой пропускной способности, а увеличение "трубы" позволяет развивать новые сервисы.
Это взаимосвязанные рынки. Кроме того, я не согласен с тем, что ситуация с широкополосным доступом в России удручающая. Она вполне адекватна сегодняшнему состоянию рынка.
Ольга Макарова: А где, собственно, деньги?
Алексей Рокотян: Вопрос, как их разложить, наверное, самый сложный. Тем не менее - инфраструктура, то есть операторы должны получать на свое развитие.
Сергей Крестьянинов: Сколько денег получит в конечном итоге оператор, зависит от того, как он определил свою роль в модели бизнеса: только эксплуатация "трубы" или развитие процессов, связанных с предоставлением услуг.
Екатерина Мурга: Существуют различные бизнес-модели, которые позволяют операторам зарабатывать деньги с провайдинга (реализации) контента. К примеру, есть прецеденты, когда правообладатели каналов готовы платить оператору за то, чтобы их канал был в его сети. Правда, здесь важна большая абонентская база, потенциал ее роста.
Анатолий Корсаков: Важность текущего момента в том, что сейчас мы видим столкновение двух идеологий - IP и мира традиционной телефонии.
Владимир Шапоров: В IP-мире люди не платили за инфраструктуру. У традиционных же операторов другая модель - они "сидят на трубе", со временем она становится шире, при этом операторы имеют возможность брать с абонентов деньги за дополнительные услуги. Они до последнего момента будут бороться за эту возможность. И это позволяет им развивать сети.
Алексей Собкевич: Традиционный оператор все равно будет зарабатывать на своей инфраструктуре и на том, что проходит через его "трубу". При этом у клиента всегда есть возможность выбирать приложения или платить за контракт с определенным спектром услуг один раз. Модель перепродажи оператором контента будет существовать всегда. Прежде всего, за счет интеграции приложений в сети.
Сергей Крестьянинов: Я полагаю, что application должно быть в стороне от оборудования, которое стоит на сети. Поскольку сервисы должны работать с разными типами оборудования. В итоге на сети оператора будет огромная область приложений.
Анатолий Корсаков: Обсуждать вопрос создания application на технологической базе или стыке технологий - бесполезно. Сейчас его надо обсуждать на стыке идей. Пользователю все равно, по какой технологии он получит нужный ему сервис.
Ольга Макарова: Если мы говорим о контенте, за который абоненты готовы платить, то это, прежде всего, телевизионный и музыкальный, то есть лицензионный контент.
В то же время не следует забывать, что в Интернете было, есть и, наверное, еще долгое время будет находиться огромное количество бесплатного или условно бесплатного контента. Вот где идет столкновение идеологий.
Анатолий Корсаков: Если говорить о будущем, то лицензионность контента будет трансформироваться в другие виды.
Игорь Байков, региональный директор Acme Packet в России и СНГ: Что касается бесплатного контента - это не обязательно должен быть контент-копирайт. Абонент готов платить за удобство. Например, картинки в мобильном телефоне уже отформатированы, музыка оптимизирована, и пользователю просто удобно. Кроме того, тинейджеры готовы платить за пользование мобильным Интернетом, потому что они проводят время вне дома. То же самое можно сказать о платном телевидении. Абонент платит за то, что хочет получить здесь и сейчас. Пользователи готовы платить за качественное интерактивное общение, обратную связь.
Алексей Собкевич: Эксклюзивный контент - это трансформированная индустрия развлечений. Ценность его в том, что он действительно нужен здесь и сейчас. Это движение идет параллельно с развитием возможностей телекоммуникационного рынка.
Александр Ивакин: Услуги, которые могут предоставлять операторы, - это не только контент. На рынок выходят сервисы, позволяющие вживую общаться, находясь не только в разных городах, но на разных континентах. Так, например, новое решение Cisco Systems - Teleresence. Такие решения не могут работать без широкополосного доступа. Кроме того, немало сервисов, когда пользователи сами генерят контент в сети оператора. К примеру, компания Telecom Italia Mobile (мобильное подразделение Telecom Italia) установила IP-видеокамеры по всей стране и абоненты сами запрашивают видео-контент с этих камер.
Владимир Шапоров: Действительно, есть масса услуг операторского класса, где контент-провайдер не нужен.
Алексей Рокотян: Что такое killer applications для традиционных операторов? Дать возможность абоненту получить услугу связи. Именно на этом операторы и фиксированные, и мобильные с их дополнительным функционалом строили свое развитие. Это ведущая потребность. И не потому, что это killer applications, а потому, что ничего другого нет. Наш бизнес в будущем - это продуктовый магазин. Не будет до тех пор killer applications, пока не сформируется другая проблема. И разговоры про applications - это, скорее, веяния вендоров.
Александр Голышко: В эпоху всеобщей конвергенции традиционные виды маркетинга, рекламы и брендинга становятся все менее эффективными. И все глобальные killer applications, которыми "грезят" маркетологи, закончились на этапе телефонии, мобильной связи и Интернета. Теперь предстоит работать с людьми, сгруппированными по интересам, или же группировать их по интересам, то есть заниматься маркетингом "вовлечения". Уже, кстати, появился термин "цифровые сообщества", обслуживанием которых и надо заниматься. Как гласит правило Порето, 20% людей выпивают 80% производимого пива, поэтому вот этим 20% и надо предложить что-нибудь "убойное".
Алексей Вомпе: В этом тоже свои открытия. Ведь в гигантских универсамах, мегамолах мы приобретаем значительно больше, чем нам бы хотелось. Это их killer applications. Нам же просто надо его нащупать.
Екатерина Мурга: Я еще в начале сказала, что услуга широкополосного доступа - это массовый продукт и продавать его надо так же, как зубную пасту или стиральный порошок в универсаме. До тех пор, пока операторы не начнут продвигать услугу как то, в чем у абонента есть ежедневная потребность, этот магазин-универсам не будет работать. Сейчас это бутик.

.jpg)